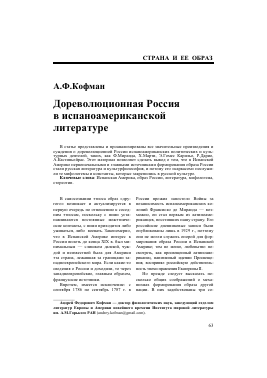СТРАНА И ЕЕ ОБРАЗ
А.Ф.Кофман
Дореволюционная Россия в испаноамериканской литературе
В статье представлены и проанализированы все значительные произведения и суждения о дореволюционной России испаноамериканских политических и культурных деятелей, таких, как Ф.Миранда, Х.Марти, Э.Гомес Карильо, Р.Дарио, А.Кастиньейрас. Этот материал позволяет сделать вывод о том, что в Испанской Америке первоначальными и главными источниками формирования образа России стали русская литература и культурфилософия, и потому его «каркасом» послужили те мифологемы и константы, которые закрепились в русской культуре.
Ключевые слова: Испанская Америка, образ России, литература, мифологема, стереотип.
В самосознании этноса образ «другого» возникает и актуализируется в первую очередь по отношению к соседним этносам, поскольку с ними устанавливаются постоянные межэтнические контакты, с ними приходится либо уживаться, либо воевать. Закономерно, что в Испанской Америке интерес к России вплоть до конца XIX в. был минимальным — слишком далекой, чуждой и неизвестной была для Америки эта страна, лежавшая за границами западноевропейского мира. Если какие-то сведения о России и доходили, то через западноевропейские, главным образом, французские источники.
Впрочем, имеется исключение: с сентября 1786 по сентябрь 1787 г. в
России прожил «апостол» Войны за независимость испаноамериканских колоний Франсиско де Миранда — возможно, он стал первым из латиноамериканцев, посетивших нашу страну. Его российские дневниковые записи были опубликованы лишь в 1929 г., поэтому они не могли служить опорой для формирования образа России в Испанской Америке; тем не менее, любопытно посмотреть, как просвещенный латиноамериканец, напитанный идеями Просвещения, воспринял российскую действительность эпохи правления Екатерины II.
Но прежде следует высказать несколько общих соображений о механизмах формирования образа другой нации. В них задействованы три со-
Андрей Федорович Кофман — доктор филологических наук, заведующий отделом литератур Европы и Америки новейшего времени Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН (andrey.kofman@gmail.com).
ставляющие. Первая — тот априорный образ страны, который был сформирован в сознании автора до непосредственного контакта по произведениям искусства и прочим источникам. Вторая составляющая — и ее всегда следует учитывать — это национальность, культурная и профессиональная принадлежность автора, его идеологическая ориентация и особенности его индивидуального мышления — все это во многом определяет модус восприятия, ту или иную степень тенденциозности, отбор деталей для построения образа. Наконец, третья составляющая — непосредственные впечатления, которые могут полностью или частично совпасть с прообразом, но могут его радикально опровергнуть.
В случае с Мирандой первая составляющая почти отсутствовала, т.е. его восприятие России не было отягощено теми стереотипами и предзаданными позициями, какие бывают свойственны образам «другого», устоявшимся во времени. Миранда был очень хорошо встречен в России; его радушно принимали высокопоставленные вельможи, ему покровительствовала сама императрица и даже предлагала ему остаться в стране. Тем более показательно, что на этом положительном фоне («О, как добры эти люди и как приветливы!») в дневнике Миранды обнаруживается ряд негативных характеристик и острых оппозиций, которые впоследствии войдут в образ России, сложившийся в Америке, и в странах Европы.
Одна из констант связана с восприятием природного пространства России — бескрайнего, прекрасного, изобильного и первозданного: «Боже мой, какие великолепные панорамы, какие виды открываются повсюду в этой стране! Без сомнения, это одно из самых прекрасных творений природы, ибо искусство здесь участвовало очень мало, либо вовсе не участвовало!» «Леса дают столько древесины, что люди расходу-
ют ее поистине расточительно». Удивительным кажется этот восторг жителя Южной Америки с ее обилием первозданного природного пространства, многообразием пейзажей и бескрайней сельвой; но эти чувства будут испытывать все латиноамериканцы, побывавшие в России. Однако образ прекрасной изобильной природы вступает в глубокое противоречие с нищенским угнетенным положением народа. Сразу же вслед за восхвалением русской природы следуют горестные наблюдения и размышления: «...Я рассматривал жилища и одежду из грубого лыка этих несчастных рабов, чья жалкая судьба, как видно, немногим отличается от судьбы невольников в иных дальних пределах. У них здесь нет ни садов, даже самых маленьких, хотя они могли бы сбывать урожай в столице с немалой выгодой для себя, ни хозяина, который заботился бы об их просвещении, о совершенстве их хозяйства, земледелия, и тем самым научил бы их обеспечивать себе сносное существование. (...) Однако я замечаю, что, напротив, чем ближе расположена деревня к господскому двору, тем более убогими выглядят ее обитатели». И далее: «Я обратил внимание, в сколь неразвитом состоянии находится в этой стране такая важнейшая отрасль хозяйства, как земледелие». Так возникает оппозиция природное/социальное, которая и в дальнейшем послужит одной из «несущих конструкций» образа России.
Так же отчетливо в дневнике Миранды обозначена оппозиция варварство/культура, столь актуальная для интеллектуала эпохи Просвещения. Важно отметить, что эта антиномия воплощается в довольно сложной системе измерений. Народ, живущий в темноте и в нищете, сохраняющий некоторые «нецивилизованные» обычаи, представляет стихию варварства; но, как видно из вышеприведенной цитаты, этому варварству потворствуют и «культурные», дворянские слои населения —
тем, что держат крестьян в рабском и скотском состоянии; лишь императрица, образец просвещенного монарха, старается насаждать культуру. Кроме того, дворяне причастны к стихии варварства в силу собственной недостаточной просвещенности, которая проявляется не только в социальном аспекте, в их отношении к народу, но также в неразвитости их эстетических вкусов. В пышных интерьерах дворцов Миранда постоянно отмечает эклектику и кричащую безвкусицу, и даже посетив Эрмитаж с его богатейшими коллекциями, он пишет: «Рассматривая собрание этих и других картин и иных произведений искусства, не перестаешь по меньшей мере удивляться тому, как можно допустить, чтобы рядом с прекрасной картиной и чудесным изобретением находилась ничтожная мазня или безвкусная поделка, а это именно так»1.
До последней четверти XIX в. в ис-паноамериканской эссеистике и литературе обнаруживаются крайне редкие и мимолетные упоминания о России. Эта ситуация радикально изменилась на рубеже веков, и первопричиной вспыхнувшего в Латинской Америке интереса к России послужила русская литература, сыгравшая роль связующего звена между двумя столь отдаленными культурами. Подробно об этом написано в Приложении к третьей книге «Истории Литератур Латинской Америки»2; здесь же будут обозначены лишь самые существенные моменты.
Поначалу роль посредника между Латинской Америкой и Россией играла Франция, где были переведены отдельные произведения Пушкина, Гоголя и Тургенева. Но с конца XIX в. эта роль перешла к Испании: в 80-е годы здесь вышли в переводе на испанский язык основные произведения Гоголя, Тургенева, Толстого и Достоевского; позже — Чехова, Горького и Андреева. Крупные издательства Мадрида и Барселоны,
выпускавшие русскую литературу, имели свои филиалы и магазины в ряде стран Латинской Америки, поэтому новые книги доходили до американского читателя непосредственно и практически без временного зазора. Тем же путем в Америку попало и первое исследование о русской литературе на испанском языке — книга известной испанской писательницы Эмилии Пар-до Басан «Революция и роман в России» (1887). Горячая поклонница русской культуры, переводчица «Слова о полку Игоре-ве», Пардо Басан в своем труде особо акцентировала общественную роль русской литературы и характерный для нее пафос страдания и сострадания3.
Огромную популярность в Латинской Америке приобрела фигура Толстого — не столько даже его художественное творчество, сколько его проповедническая деятельность. Об этом свидетельствуют как найденные в архиве Толстого полторы сотни писем от латиноамериканских читателей, так и предпринятые в Чили попытки организации толстовских колоний. Одна из них, основанная в 1904 г., объединяла интеллектуалов, среди них были в будущем известные чилийские писатели Аугусто Д'Альмар, Карлос Пессоа Ве-лис, Бальдомеро Лильо и Фернандо Сантиван, который изменил свое имя Сант-Ибаньес на русский лад, а впоследствии написал книгу «Воспоминания толстовца» (1955) о жизни колонии. Почти одновременно в Сантьяго-де-Чили возникла колония толстовцев-пролетариев, поклонников одновременно Толстого, Бакунина и Кропоткина.
Вслед за Толстым по всей Латинской Америке прогремело имя Горького — интерес к нему не в последнюю очередь привлек великий латиноамериканский поэт Рубен Дарио, который в 1902 г. опубликовал о нем очерк и в том же году перевел с французского его роман «Фома Гордеев». Наибольший резонанс творчество Горького имело опять-таки
3 Латинская Америка, № 2
65
Русская литература и в XXI в. отвечает запросам латиноамериканской культуры. Анонс спектакля «Три сестры». Журнал «Teatro». Аргентина, 2008 г.
в Чили — и не случайно: в этой про-мышленно развитой стране возник особенный тип люмпена, так называемый «рото», во многом похожий на горьков-ских босяков и получивший широкое отражение в национальной литературе. Горький быстро стал еще одним кумиром чилийских толстовцев. Наконец, в 10-е годы ХХ в. в Латинской Америке начинается бурное увлечение Леонидом Андреевым — по свидетельству П.Неруды, заглавному герою повести «Сашка Жегу-лев» «тогда подражала мятежная латино-
4
американская молодежь» .
В Латинской Америке такое сочетание русских кумиров — Толстой, теоретики анархизма, Горький, Андреев, а к ним в интеллектуальных кругах прибавлялся Достоевский — вовсе не казалось противоестественным. С одной стороны, молодая латиноамериканская культура в силу особенностей своего формировани
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.