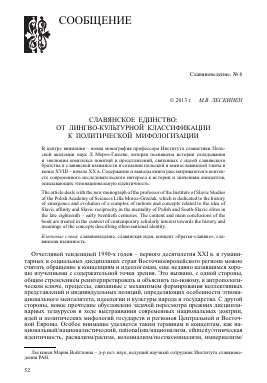СООБЩЕНИЕ
Славяноведение, № 6
© 2013 г. М.В. ЛЕСКИНЕН
СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО: ОТ ЛИНГВО-КУЛЬТУРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ К ПОЛИТИЧЕСКОЙ МИФОЛОГИЗАЦИИ
В центре внимания - новая монография профессора Института славистики Польской академии наук Л. Мороз-Гжеляк, которая посвящена истории складывания и эволюции комплекса понятий и представлений, связанных с идеей славянского братства и славянской взаимности в сознании польской и южнославянской элиты в конце XVIII - начале ХХ в. Содержание и выводы книги рассматриваются в контексте современного исследовательского интереса к истории и значениям концептов, описывающих этнонациональную идентичность.
The article deals with the new monograph of the professor of the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences Lilla Moroz-Grzelak, which is dedicated to the history of emergence and evolution of a complex of notions and concepts related to the idea of Slavic affinity and Slavic reciprocity in the mentality of Polish and South-Slavic elites in the late eighteenth - early twentieth centuries. The content and main conclusions of the book are treated in the context of contemporary scholarly interest towards the history and meanings of the concepts describing ethno-national identity.
Ключевые слова: славяноведение, славянская идея, концепт «братья-славяне», славянская взаимность.
Отчетливой тенденцией 1990-х годов - первого десятилетия XXI в. в гуманитарных и социальных дисциплинах стран Восточноевропейского региона можно считать обращение к концепциям и идеологемам, еще недавно казавшимся хорошо изученными с содержательной точки зрения. Это вызвано, с одной стороны, общим стремлением реинтерпретировать и объяснить по-новому, в антропологическом ключе, процессы, связанные с механизмом формирования коллективных представлений и индивидуальных позиций, определяющих особенности этнона-ционального менталитета, идеологии и культуры народа и государства. С другой стороны, новое прочтение обусловлено задачей пересмотра прежних дисциплинарных тезаурусов в ходе выстраивания современных национальных доктрин, идей и политических мифологий государств и регионов Центральной и Восточной Европы. Особое внимание уделяется таким терминам и концептам, как на-циональный/националистиче ский, nationalism/национализм, ethnicity/этниче ская идентичность, расиализм/расизм, колониализм/постколониализм, империализм/
Лескинен Мария Войттовна - д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.
культурный империализм и др., которые, будучи заимствованы из иного социально-научного дискурса, обретают сегодня в российской историографии значения и смыслы, отличные от своего первоначального содержания, вступая в конфликт не только с прежним политизированным знанием, но и с отечественной «памятью понятий» (термин Н.Е. Копосова). Если о применении терминов «национализм» и «этничность» (либо принимаемых в качестве категорий метаязыка научного описания, либо используемых как концептуальный инструментарий для анализа исторических текстов) отчасти удалось «договориться» - в частности, в исследованиях в области так называемой империологии или антропологии науки можно говорить о некоем консенсусе, то другие категории - как, например, «постколониализм» - с трудом поддаются «адаптации» или «усвоению» в российских социо-гуманитарных дисциплинах [1]. И сам по себе процесс лингво-культурно-го «перевода» («трансфера») категорий и концептов подвергается сегодня рефлексии - главным образом на историческом материале [2], с акцентом на исторической семантике [3]. Ученому, вовлеченному в современную проблематику, так или иначе взаимодействующую с политико-социологическими запросами и идеологической актуальностью, сложнее кардинально изменить парадигму, опирающуюся на сложившуюся систему концептуализации. Ученые, в отличие от политиков и идеологов, стремятся к научной корректности и пытаются строго разграничивать оценочные понятия (такие, например, как национализм в языке советской науки или расиализм - от концепций нации, национализма и расизма в их западноевропейском понимании, без маркирования смыслов [4-5]).
В русле данной тенденции следует, на мой взгляд, рассматривать и всплеск научного интереса к проблеме возникновения и содержания комплекса сополо-женных терминов - «славянская идея», «славянская взаимность», «славянское братство», «славянофильство», «панславизм» и др. Об этом свидетельствуют, в частности, многочисленные в последние годы монографии и сборники на эту тему на разных славянских языках [6-9], а также полемика, развернувшаяся по поводу последней из указанных монографий на страницах журнала НЛО [10-11]. Актуальность вопроса о теории и практике славянской взаимности вызвана, помимо научно обоснованного интереса к истории категорий этнонационального характера (в ХХ в. не раз менявших акценты в угоду политическим режимам или под влиянием идеологических запретов и клише), - общего для современных европейских национальных историографий, задачей создания нового этнонацио-нального дискурса. Однако сегодняшние попытки по-новому взглянуть на сущность и эволюцию представлений о сообществах разного уровня - и славянского в том числе, зачастую исходят из стремления сменить знак, игнорируя не только прежние оценки (заключения), но и исторический опыт анализа (имеющего богатую историографическую традицию, - как дореволюционную славистическую, так и послевоенную историко-академическую), о советской и постсоветской библиографии вопроса см в: [8. С. 5-30; 12-13]. Эта проблематика была приоритетным направлением и в Институте славяноведения РАН.
Монографическое исследование польского профессора, доктора наук Лиллы Мороз-Гжеляк из Института славистики Польской академии наук «"Братья славяне". Образы общности и реальность» посвящено истории формирования взглядов на славянскую солидарность в сознании элиты славянских народов с начала XVIII до 20-х годов XX в. [14]. Автор избрала для анализа художественную литературу и научную, политическую и полемическую публицистику представителей пяти славянских народов: поляков, хорватов, сербов, болгар и македонцев, которые конструировали, применяли и исторически аргументировали концепцию «славянского братства». Последовательная реконструкция указанных пяти исто-рико-национальных вариантов данной идеологемы определила и структуру монографии, состоящую из введения, пяти глав, шестой, именуемой «Эпилогом»
(«Изменение мифа о славянской общности»), краткого заключения и библиографического раздела.
Введение представляет собой теоретико-историческое обоснование задач и позиций автора. Мороз-Гжеляк полагает, что идея славянского единства является важной для славянства мифологемой, в которой отражались и менялись со временем взгляды на общность и разнообразие, сходства и различия, притяжение и отталкивание народов, стремившихся отвоевать свою независимость. В сущности, концепт «славянское братство» стал своеобразной идеологической основой формирования регионально-племенной и этнонациональной идентичности. В кратком обзоре современных научных подходов Л. Мороз-Гжеляк подчеркивает, что ныне факт «объективного» существования единой славянской этнокультурной общности ставится под сомнение; он рассматривается как идеологема или мифологема, пережившая свое время, но оставшаяся удобной риторической формулой для различных национально-политических доктрин. Бесспорным аргументом, по мнению Мороз-Гжеляк, в пользу выделения славян как отдельной группы народов (этносов) может считаться язык, который выступает единственно бесспорным критерием этничности [14. С. 7]. Автор специально останавливается на том, что «в действительности» в основе теории славянского родства лежит не лингвистическая, а «воображаемая» общность, т.е. идея, сконструированная на основе легендарно-мифологической традиции и романтических представлений о взаимосвязи кровного (антропологического), языкового и исторического единства. Автор опирается на взгляды теоретиков национализма и этничности, исходя из того, что концепция славянства формируется по тем же законам и в тех же формулах, что и национальная идеология в период Просвещения и романтизма. Отличие лишь в том, что большинство славянских народов, не создав или утратив собственную государственность, обращалось к изучению обозримого и легендарного прошлого, усматривая в нем объединяющие приметы не малой этнически однородной общности под властью своего правителя, а связующие узы между славянскими племенами. Они повышали их исторический статус, давая им моральное и политическое право отстаивать свою самобытность перед лицом угрозы поглощения германской цивилизацией и мусульманским миром. Вторичной в этом случае оказывается конфессиональная принадлежность [14. С. 10-11].
Определяющую роль в процессе аргументации славянской общности - и с этим трудно не согласиться, - сыграли идеи немецкого философа И.Г. Гердера, обосновавшего главные отличительные признаки и «дух» германских и славянских «стихий» как основных исторических конкурентов на европейском пространстве. Создатели и проповедники теории славянской взаимности, начиная с конца XVIII в., в той или иной степени воспроизводили концепции Гердера. Тезис об этнической солидарности, основанной на общности языка и происхождения, не оспаривался и гегелевской идеей о духе и призваниях разных народов. В условиях отсутствия государственной независимости эту миссию должна была принять на себя славянская общность (племя выступает здесь как нация-народ). Перенос важного для национальной идентичности ощущения солидарности на наднациональный - общеславянский - уровень в определенном смысле поднимал исторический и политический статус народов, нивелируя тем самым их реальные отличия в конфессиональной принадлежности, языке, культурных ориентирах и цивилизационном развитии [14. С. 13].
Во введении Л. Мороз-Гжеляк объясняет ограничение анализа славянской взаимности только одним западнославянским и четырьмя южнославянскими народами польской традицией изучения данного круга проблем [14. С. 16-20]. В центре ее внимания находятс
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.