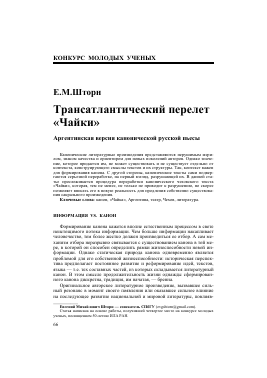КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Е.М.Шторн
Трансатлантический перелет «Чайки»
Аргентинская версия канонической русской пьесы
Канонические литературные произведения представляются нерушимым мерилом, знаком качества и ориентиром для новых поколений авторов. Однако значение, которое придается им, не может существовать и не существует отдельно от контекста, конструирующего смыслы текстов и их структуры. Так, контекст важен для формирования канона. С другой стороны, канонические тексты сами подвергаются серьезной переработке, на первый взгляд, разрушающей их. В данной статье прослеживается процедура переработки канонического чеховского текста «Чайки», которая, тем не менее, не только не приводит к разрушению, но скорее позволяет вписать его в новую реальность для продления собственно существования сакрального произведения.
Ключевые слова: канон, «Чайка», Аргентина, театр, Чехов, литература.
ИНФОРМАЦИЯ VS. КАНОН
Формирование канона кажется вполне естественным процессом в свете неистощимого потока информации. Чем больше информации накапливает человечество, тем более жестко должен производиться ее отбор. А сам механизм отбора неразрывно связывается с существованием канона в той мере, в которой он способен определить рамки жизнеспособности новой информации. Однако статическая природа канона одновременно является проблемой для его собственной жизнеспособности: историческая перспектива предполагает постоянное развитие и реформирование идей, текстов, языка — т.е. тех составных частей, из которых складывается литературный канон. В этом смысле продолжительность жизни однажды сформированного канона дискретна, традиция, им начатая, — бренна.
Оригинальное авторское литературное произведение, вызвавшее сильный резонанс в момент своего появления или оказавшее сильное влияние на последующее развитие национальной и мировой литературы, повлияв-
Евгений Михайлович Шторн — соискатель СПбГУ (evgshtom@gmail.com). Статья написана на основе работы, получившей четвертое место на конкурсе молодых ученых, посвященном 50-летию ИЛА РАН.
шее на ход дальнейшего развития жанра, языка, культуры или даже истории, прочно вошедшее в сознание определенного народа либо определенной эпохи, зачастую оказывается в положении раздираемой на части жертвы. С одной стороны, оно становится «каноническим» — этакой священной коровой. С другой, — глубоко отпечатавшись в памяти целых поколений, оно растаскивается на цитаты и становится основой для создания новых произведений литературы и искусства. Не только творения «языкооб-разующих» классиков, таких, как Данте, Сервантес и Шекспир, но и лучшие произведения XIX—XX вв. оказались канонизированы западной культурой и используемы ею в качестве предмета для торга или для дальнейшего саморазвития1.
Однако сакрализация литературного произведения, на первый взгляд, плохо сочетается с его популярностью. Неизменность канонического текста и его постоянное реформирование для современного использования есть вещи взаимоисключающие. Однако, что есть саморазвитие неприкосновенной субстанции, как не ее самоадаптация под реалии нового времени? Канон имеет природу скорее социологическую (тексту предается исключительное значение под воздействием внешних сил)2, а не аксиологическую (значение текста заложено в нем самом)3. Таким образом, вопрос состоит в том, должен ли канон, бесконечно уничтожаться, чтобы подобно птице феникс вновь возродиться из пепла?
ЦЕРКОВНАЯ ПЕСНЬ ИЛИ ЛИНЕЙКА
Канон сформирован до нас, вне нас и помимо нас, однако, будучи совокупностью знания, предшествующего нам, он оказывает на нас влияние, формируя и встраивая нас в свою систему координат. Нашему восприятию нового произведения, созданного на базе старого, мешает «канонизирован-ность» последнего, опирающаяся в первую очередь на его всемирно признанного автора, совершенного творца. В то же время канонизации не избежали и образы героев мифов и легенд тех или иных народов. Несмотря на то, что канон является дискурсом, сформированным значительно позже, нам трудно представить себе Геракла субтильным, задумчивым юношей, а Пенелопу развратной женщиной, или вообразить себе, что Эдип не был сыном Лая и пал жертвой дворцовых интриг с участием продажного оракула. Иными словами, пока канона как такового еще нет, нет и того, что не было бы каноном4.
В контексте формирования и отбора накопленной информации с целью ее систематизации и придания ей приоритетного значения по отношению к другим произведениям того же периода или с той же тематикой, т.е. во имя построения этакой вертикали художественной власти, возникает необходимость в специальном термине, способном обозначить вектор и прямоту подобного устремления. Этот процесс концептуализирования понятия прослеживается в ему посвященных словарных статьях разных исторических эпох. Набор определений канона делает очевидным парадокс, заключающийся в том, что этому слову (которым древние греки называли тростник, а позже стали использовать еще и в значении «линейка»5), призванному означать и отсылать нас к Норме и Правилу, к чему-то конкретному и нерушимому, самому не удалось избежать энтропии.
3* 67
Для подтверждения данной сентенции достаточно обратиться к ряду словарных дефиниций канона. В.И.Даль определяет канон как «церковную песнь», «печатальные буквы» или как синоним к слову канун6. В энциклопедии Брокгауза и Эфрона канон определяется в первую очередь как термин, относящийся к вероучению. А второе значение авторы статьи дают по Канту: «Совокупность основоположений или принципов разума, определяющих употребление его в сфере нравственной»7. У Д.Н.Ушакова определение канона гораздо более широкое. Стоит обратить внимание на то, что во втором значении канон определяется им как «совокупность художественных приемов или эстетических правил, господствующих в ту или иную эпоху»8. А под номером 4 с пометой «перен.» канон определяется как «проверенный и окончательно установленный текст произведений какого-нибудь писателя, совокупность его произведений, не внушающих сомнения относительно авторства (нов. лит.)», например, пушкинский канон9. Наконец, я сделал то, что делает большинство моих современников, — обратился к «Википедии» за определением термина «канон»: «Неизменная (консервативная) традиционная, не подлежащая пересмотру совокупность законов, норм и правил в различных сферах деятельности и жизни человека»10.
Очевидно, что термин «канон», становясь все более «светским», не утрачивает в то же время своей полисемантичности, сохраняя коннотацию традиционности и сакральности. Он словно вбирает в себя все большее число значений, одновременно означая уже и печатное слово, и священные скрижали, и авторский текст. Говоря о каноне, мы подразумеваем нечто неприкосновенное, что мы можем только ревностно оберегать, аккуратно смахивать с этого нечто пыль. При этом само нечто проходит исторический путь от священного текста до жанровой литературы.
Необъективность канона, его тенденция к классовости, сексизму, расизму и замкнутости на самом себе являются предметом жарких дискуссий на протяжении многих десятилетий11. Проблема спорности самого примера для подражания возникает тогда, когда пример этот либо совершенно себя изживает в силу неактуальности поднимаемой в нем проблематики или архаичной формы изложения, либо подвергается критике, подрывающей саму основу его существования. Таким образом, канон не может быть раз и навсегда сформированным списком или текстом, или сводом правил12. Канон во многом является отражением потребностей того или иного общества, мировоззрения в конкретный исторический момент. В этом смысле канон является не идеальным воплощением, а скорее глиной для создания все новых произведений, зачастую даже без осознаваемой оглядки на оригинал. Оспаривать каноничность «Дон Кихота» или «Гамлета» будет лишней тратой времени, так же как и отрицать то, что этим оригинальным творениям, созданным гением Сервантеса и Шекспира, с лихвой досталось от благодарных потомков.
Наконец, было предложено и механическое — статистическое — определение канона13. В этом случае мы вынуждены будем, опираясь на индекс цитирования, редуцировать Гамлета до уже почти риторического вопроса «Быть или не быть?», а два увесистых тома «Дон Кихота» до эпизода с ветряными мельницами. И все-таки, какое бы определение канона ни предлагалось исследователями, одно остается ясно: канон есть некая константа, некий высший критерий, этакая Нобелевская премия, выдаваемая самой Историей14.
Канонический литературный текст — это и есть канон как таковой, материальное воплощение идеала. Таким образом, любое вмешательство в уже написанный и опубликованный текст есть покушение на деформацию или даже разрушение этого первичного текста-канона. Значит ли это, что издавая свой текст и ставя под ним свое имя, автор, тем самым, канонизирует его, пресекая всякую возможность интерпретировать, адаптировать, продолжать или даже переводить текст? Вполне логичным было бы отмахнуться от этой мысли, как от навязчивой риторики. Однако если мы возьмем черный маркер и пририсуем «Моне Лизе» гитлеровские усы или толстовскую бороду, не будет ли это тем же самым, что вносит изменения в классический литературный текст? Или, скажем, не является ли разрушением канонического шедевра живописи фотография той же пресловутой «Моны Лизы»?
Но в том-то и заключается дуализм каноничности художественного произведения. Оно призвано влиять, быть образцом, а значит, не может избежать ти-ражированности, в процессе которой претерпевает определенные видоизменения: такие, как перевод на другие языки или на другие носители информации, а также всевозможные пересказы, интерпретации, аллюзии и т. д.
Однако, видоизменяя неприкасаемый, основообразующий, прошедший испытание Историей канон, разве автор «подделки» не разрушает его? И как в таком случае оценить такую форму литературного текста, как драматургия, которая всегда стремится вырваться за рамки книги, обрести свое «непостоянное» сценическое воплощение? Ведь любая сценическая интерпретация литературного текста это, по меньшей мере, его видоизменение, а чаще
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.